«Тағдырлы жазушы = Писатель большой судьбы»

Ждем Вас на просмотр интерактивной книжной выставки!


























Дом-музей Сабита Муканова
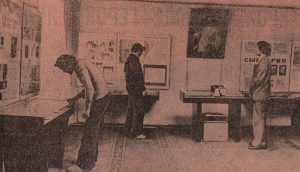
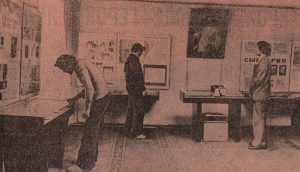 В его кабинете на письменном столе рядом со страницами неоконченного романа «Аккан жулдыз» — чистый лист бумаги. И тем, кто близко знал Сабита Муканова, его соратникам По перу, да и всем, кто приходит теперь в Дом-музей писателя, кажется, что Сабит-ага отлучился ненадолго, вот-вот вернется и продолжит работу над книгой.
В его кабинете на письменном столе рядом со страницами неоконченного романа «Аккан жулдыз» — чистый лист бумаги. И тем, кто близко знал Сабита Муканова, его соратникам По перу, да и всем, кто приходит теперь в Дом-музей писателя, кажется, что Сабит-ага отлучился ненадолго, вот-вот вернется и продолжит работу над книгой.
Это чувство рождается всей обстановкой, созданной в музее, такой, какой она была при жизни писателя. В гостиной — книги, их много: произведения классиков марксизма-ленинизма, русских и зарубежных писателей, энциклопедии…
Экспозиции Дома-музея: «Муканов среди читателей», «В кругу писателей», «Переводы на языки народов Советского Союза», «Переводы на языки народов мира» отражают многогранную деятельность Сабита Муканова — писателя, ученого, видного общественного деятеля.
Каждая вещь здесь имеет свою историю и будет рассказывать теперь за писателя и о писателе, стоявшем у истоков казахской советской литературы. Перу Сабита Муканова — поэта, прозаика, драматурга, принадлежат талантливые произведения «Ботагоз», «Светлая любовь», «Школа жизни», «Промелькнувший метеор», пьесы «Чокан Валиханов», «Сакен Сейфуллин» и целый ряд других произведений.
Сын батрака, он вырос до крупного писателя и ученого-исследователя, творчество которого известно не только в нашей стране, но и за рубежом. Его книги издаются на многих языках мира. Сабит Муканов явился одним из первопроходцев целинной темы в советской литературе.
Сабит Муканов был большим Другом «Казахстанской правды». На протяжении многих лет выступал он на страницах газеты с очерками, статьями, посвященными расцвету республики.
В книге посетителей Дома-музея оставили первые записи известные писатели Г. Мустафин, А. Тажибаев, А. Нурпеисов, М. Каратаев.
За первыми записями появятся еще и еще, ибо не будет пустовать дом, который был всегда открыт при жизни писателя для друзей, товарищей по перу, для начинающих поэтов и прозаиков. Жизнь и творчество Сабита Муканова будут служить многим поколениям примером самоотверженного служения народу, большой заботы писателя о расцвете культуры республики. А книги его не перестанут волновать все новых и новых читателей.
С. ЯГМУРОВА.
Ягмурова С. Дом-музей Сабита Муканова // Казахстанская правда.- 1978.- 25 ноября.
Мои встречи. 80 лет со дня рождения Сабита Муканова
С Сабитом Мукановым я впервые встретился в марте 1942 года. Призванный в армию, я тогда приехал в Алма-Ату. Временно нас разместили в просторном зале кинотеатра «Ударник». Сабит отнесся ко мне хорошо, видимо, его заинтересовало то, что я пишу. Пятерых или шестерых ребят пригласил он к себе домой. Среди них, благодаря судьбе, был и я. Мы пробыли у него целый день и целую ночь, слушая увлекательные рассказы маститого писателя, летописца жизни народной.
Прошло после этого три года. В октябре 1045 года, я вновь приехал в Алма-Ату на-девятимесячные журналистские курсы, открывшиеся при Алма-Атинской партийной, школе. Самолет сделал посадку в столице около одиннадцати часов вечера. В гостинице не оказалось мест. В городе у меня пи родных, ни знакомых. Что делать? Неожиданно мне вспомнилось приветливое, всегда излучающее радушие лицо Сабита-ага. Несмотря на то, что город уже спал, я пошел на улицу Артиллерийскую (ныне. Курмангазы) и постучал в знакомую калитку. Ждать пришлось недолго. Послышался знакомый всем, слегка хрипловатый голос Сабита:
— Кто там?
— Это из родного края, отвечал я, считая, что Сабит, конечно же, не помнит моего имени.
Открылась калитка.
— Э, да это ты, Сафуан? Что же ты по имени не назвался, а? Проходи, проходи, — радушно встретил меня Сабит-ага. Оказывается, он и имя мое не забыл.
Прошло несколько дней. Сабит, узнав, чем я занят, сказал;
— Ты же хочешь быть писателем. Поступай в, университет. Каков бы ни был талант, а без образования и знаний нелегко стать, писателем.
— Так ведь в университете занятая уже начались, не примут, наверное.
Сабит взял ручку, бумагу, что-то написал и вручил мне:
— На, отнеси эту записку ректору университета. Я думаю, что поступишь, хотя и запоздал.
По дороге в университет меня разобрало любопытство, ц я вскрыл записку. И вот, что я прочел: «Этот джигит среди начинающих писать — один из подающих надежды. Прошу его принять».
Ректор, прочитав записку, слегка улыбнулся и наложил визу: «Зачислить». Так я стал студентом университета.
Однажды я принес Сабиту свои стихй. Сабит с большим вниманием выслушал их и сказал:
— Техникой стихосложения ты овладел неплохо, но строки от, начала до конца полны тоски и почали. Сабит помолчал, поглядывая на меня краем маленьких монгольских глаз. — Меня иные винят, называя мягкотелым. Пожалуй, в чем то они правы. Я как раз решил с сегодняшнего дня говорить всем в лицо без обиняков всю правду. Ты попался под горячую руку, не обижайся.
Я пожалел, что не пришел днем раньше. А он тут же стал разъяснять мне, в чем неверность избранного мной пути.
Сейчас я вижу, что в моей жизни были два больших поворотных момента. Первый — это когда я с помощью Сабита поступил в университет. Второй — когда, благодаря его справедливой критике, нашел верное творческое направление. За эту заботу старшего брата тысяча и одна благодарность ему!
Он, если быть объективным, сделал очень много для нас, тогда начинающих писателей. Когда я привез в Алма-Ату свой первый роман «Дорога в будущее», одним из трех уважаемых людей, прочитавших его и давших объективную оценку, был Сабит-ага. Не будет преувеличением сказать, что нет ни одного писателя, включая Габита Мусрепова, из поколений различных мастеров пера, на кого бы не имел влияния или кому не оказывал бы своего содействия и помощи Сабит-ага. Он был одним из основоположников казахской советской литературы и долгие годы творил в ее рядах, способствуя ее становлению и развитию.
Казахская литература была смыслом жизни для Сабита Муканова, воздухом, без которого нельзя дышать. Как-то в несколько более ранний период он говаривал: «Я люблю работать одновременно над несколькими произведениями». И это было правдой. Я помню, как он, работая над романом «Сырдарья», закончил повесть и о Малике Габдуллине. Работая над «Батырами нашего времени», закончил большую монографию об Абае…
Сабит-ага писал очень много. И, самое главное, легко писал. Писать много и легко — редкое для писателя качество. Было время, когда мы эту завидную плодовитость Сабита Муканова считали недостатком и шумно ставили в упрек. Но что Сабит остается Сабитом, мы поняли с тех пор, как его не стало. Мы, те, что шли за ним следом и предъявляли какие-то требования, должны были понять это раньше.
И еще одним удивительным качеством обладал Сабит: он поразительно много знал. Можно с уверенностью сказать, что среди писателей нет и не было никого, кто бы знал устное казахское творчество, историю казахской литературы так, как знал Сабит Муканов.
Он много ездил, часто бывал среди народа. В таких поездках человек сталкивается и с плохим, и с хорошим. Но никогда я не видел, чтобы Сабит хмурил брови, проявляя недовольство, или держался с людьми высокомерно. В народе Сабит пользовался особенным уважением и почетом. Он был старше многих, у него было свое, особо высокое место среди всех. И тем не менее, когда во время поездок встречался человек старше по возрасту, Сабит первым протягивал руку для приветствия, вежливо склонив голову.
У Сабита Муканова было одно неизменное и бесценное достоинство. Это бережное и заботливое отношение к литературе, к товарищам по перу, к молодым коллегам. И каждый из нас должен быть благодарным ему. Мы склоняем головы перед памятью самородка казахской советской литературы, чей щедрый от природы талант обернулся на наше Счастье великим искусством.
Шаймерденов С. Мои встречи. 80 лет со дня рождения Сабита Муканова // Ленинское знамя.- №115
«Ваш Сабит…»

 Областной историко-краеведческий музей имеет немало материалов, связанных с жизнью и творчеством большого писателя, нашего земляка Сабита Муканова. Особое место среди них занимают письма, статьи, воспоминания Сабит Муканович никогда не забывал родной север, часто приезжал в свой аул и в Петропавловск, постоянно встречался с писателями-североказахстанцами, другими творческими работниками.
Областной историко-краеведческий музей имеет немало материалов, связанных с жизнью и творчеством большого писателя, нашего земляка Сабита Муканова. Особое место среди них занимают письма, статьи, воспоминания Сабит Муканович никогда не забывал родной север, часто приезжал в свой аул и в Петропавловск, постоянно встречался с писателями-североказахстанцами, другими творческими работниками.
О многом могут рассказать свидетельства этой творческой связи.
Из статьи Ивана Шухова «Сабит Муканов»: «Я знаю, как читаются книги Сабита в степных аулах родного обоим с ним Северного Казахстана. Я видел мукановские стихи и романы в руках солдат — казахов на фронте под легендарным и героическим Ленинградом в суровые и грозные дни первой блокадной зимы. Сабита читали в блиндажах и землянках весной 44-го года под Нарвой. И что может быть дороже для писателя такой читательской награды и похвалы!».
В воспоминаниях Галыма Малдыбаева есть такие строки: «Хотя и разделяла нас не одна сотня километров, но, кажется, сокращались расстояния, когда почта приносила в синем конверте новости, добрые советы моего замечательного земляка. Последнее письмо от него датировано 1972 годом. Сабит писал, что хочет с женой Марьям посетить родной край, Уехать на торжества, посвященные моему 70-летию, навестить свой «одной Жаман-Шубар…».
Многолетняя дружба с Мукановым связывала петропавловского писателя Бориса Петрова. В 1959 году, когда Борис Николаевич был назначен секретарем межобластного отделения — СП Казахстана, он побывал в Алматы.
Там состоялась встреча двух писателей. Сабит Муканович подарил земляку и собрату по перу свою книгу «Школа жизни» с автографом.
Он помнил многое и многих. Поэт Муталлап Кангожин пишет: «Меня поразила великолепная память писателя, в которой безошибочно сохранились имена людей, названия местностей, озер, рек. Сабит-ага был живой легендой родного края. Полет его мысли напоминал мне бег иноходца».
Деловые отношения сложились у Сабита Муканова с тогдашним директором Северо-Казахстанского историко-краеведческого музея Константином Сергеевичем Ушковым. В письме, датированном декабрем 1955 г., писатель признался ему: «Вы знаете, что я люблю Петропавловск, область как уроженец этого края. Также вы знаете, что я о ней писал немало. Но — все это начало того большого, что я собираюсь писать о ней…».
Несмотря на занятость, автор «Школы жизни» находил время для переписки с теми, кого он уважал и ценил. В 1960 г. Сабит Муканович поздравил коллектив историко-краеведческого музея с награждением его дипломом Министерства культуры
Мукановские страницы ярко вписаны в историю Северо-Казахстанского театра драмы им. Н.Погодина. В нем впервые на русской сцене в 1957 году была поставлена пьеса С.Муканова «Чокан Валиханов». Заглавную роль в том спектакле играл артист Геннадий Шарнин, а в роли Айжан выступила его жена Мария Ямщикова (Шарнина). Спектакль очень понравился автору, а к исполнителям главных ролей впоследствии он испытывал самые дружеские чувства, о чем свидетельствуют письма писателя, хранящиеся в нашем музее.
В апреле 1970 г. Сабит Муканович писал Шарниным, которые в то время жили и работали вдали от Петропавловска: «Дорогие друзья Геннадий и Мария! Ваше поздравление с моим 70-летием получил. Большое братское спасибо. Куда же вы забрались, друзья мои? Думаю, что «гастроль» эта ваша скоро кончится и вы вернетесь в родной Казахстан и будете исполнять новые роли. По-братски обнимаю вас обоих и крепко целую. Ваш Сабит».
В январе 71-го он снова написал: «Милые Шарнины!.. Помещение театра в Петропавловске строится успешно Думаю — откроют к осени текущего года. Надеюсь, вы до этого вернетесь. А я готовлю пьесу. Там для вас будут роли…». Здесь, очевидно, речь идет о пьесе «Сакен Сейфуллин», которую С.Муканов тоже хотел увидеть поставленной в нашем театре. Намек на это читаем в его следующем письме: «Дорогие Шарнины! Очень рад, что вы вернулись в Петропавловск, тем более, после завершения строительства нового здания театра. Оно, по-моему, очень красиво и в нем есть где развернуться… Договорились, что роль Сакена будет исполнять Геннадий, он же хорошо справился с ролью Чокана…».
И еще одна весточка, переданная на хранение в музей. Это телеграмма — отклик на решение городских властей, объявивших С.Муканова Почетным гражданином г.Петропавловска (1966 год): «Выражаю бесконечную сыновью благодарность… Обещаю и впредь от души воспевать героическую борьбу, достижения родной области и города. Сабит Муканов».
Галина СЕНТЮРИНА,
научный сотрудник областного музейного объединения
НА СНИМКЕ: С.Муканов, И.Шухов, М.Шолохов на III съезде писателей Казахстана, 1954 г. (из архивов историко-краеведческого музея)
Сентюрина Г. «Ваш Сабит…» // Северный Казахстан.-2000.-28 января.-С.15
